...
Страницы журнала
| Главная » Статьи » Пророки и гении |
Ничего, кроме жизни
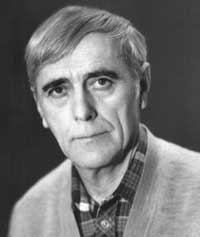 Ничего, кроме жизни Ничего, кроме жизни (философская лирика) Николай ТАРАСЕНКО Два сонета 1 Поймать свой ритм пусть не спешат лета, само собой придёт искусство это. Блеснёт античных статуй красота, скульптурная законченность сонета. В оправе строф, как в раме для портрета, всей жизни уместилась маета, вздох первый и последняя черта, огонь вакханки, сдержанность аскета. А между тем душа запросит чуда понять: «Кто мы, зачем мы и откуда? И что за цель в конечном далеке?» Вдруг чуда не окажется в сонете, поэт передоверил тайны эти единственной оставшейся строке. 2 Поднимаюсь на холм. Вот сегодня моё восхожденье, он терновым кустом и верблюжьей колючкой порос, он достаточно крут, чтобы мышцам вернуть напряженье, смоделировать жизнь, разгадать, обещая всерьёз. Поднимаюсь на холм. Мой ботинок цепляет коренья, оступаюсь, карабкаюсь, камни летят под откос. Наверху — плоскогорье и шумное столпотворенье хмурых сосен, дрожащих осинок, весёлых берёз. Вроде цели достиг и как будто опять на пороге, углубись в этот лес, и окажешься снова в дороге, её снова придётся, пока не стемнело, пройти. А на спуске в долину, на самом последнем пределе, вдруг догонят вопросы немые о смысле и цели, те, что слабо тревожили и забывались в пути. Преждевременная строка Преждевременная строка, прежде времени ты слагалась. Обозначенная слегка, всё равно не воспринималась, узнаваемая с трудом, недоверчивая к подсказке, как на вечере выпускном старшеклассница в полумаске. Что угадывалось едва, продолжает звучать свободно. Преждевременные слова будто найденные сегодня. Архилох Создатель ямба, Архилох, в венке из лавра, стал эстампом. Он о себе сказать не мог: «Пишу традиционным ямбом». Он был отважен, Архилох, знал щит и меч — служил солдатом, Свой небывалый, смелый слог ступнёю пыльною в сандалье отстукивал. А до него нет ни Алкея, ни Сапфо — рабовладельческая эра гремит гекзаметром Гомера. Создатель ямба Архилох обласкан не был дифирамбом, погиб солдат и в землю лёг, в венке из лавра, стал эстампом. Пишу традиционным ямбом. Орех Орех, ты нашей жизни древо, и нам приходится страдать, когда направо и налево твой дар торопятся продать. Всё лето лупят чем попало, сбивают камнем и шестом, с молочной мякотью сначала, с незрелым ядрышком потом. А я, бродя в твоих пределах, когда осенний свет уныл, плодов с десяток, самых спелых, стрясённых ветром, находил. Живём с надеждой на огрехи всех тех, чья очередь первей. Творенья зреют, как орехи с недосягаемых ветвей. Легенда Сегодняшняя палуба крепка, с неё тебя и в штормы не смывает, моей душой опять овладевает просторная Гомерова строка. Левей по Геллеспонту — Илион, мифическая разыскалась Троя, её открыл, лишь текст побеспокоя, тот, кто поверил в невозможный сон. И моряка, и книжного доцента равно влечёт туманная легенда, как вещь в себе, собою хороша. Подобьем витаминного экстракта легенда оживляет прозу факта, она ему что смертному душа. * * * Ещё вникаю в суть вопросов, ещё тревожу жизнь свою. ещё, как давних дней философ, злым духам противостою. Прицельная или слепая, словесная велась пальба, и я терялся, отступая и отирая пот со лба. А время с мыслями собраться тому философу под стать: среди вранья и казнокрадства на слове чести настоять. * * * Искра сознанья во мраке материи, мы загляделись на звёздный посев. Бездны вдохнём и погаснем потерянно, собственный свет распознать не успев. Жизнь понимая отсрочкой от гибели, радостью странствий, семейных ли стен, что бы там ни было, как бы там ни было, нам не предложено что-то взамен. Вечного рабства — и то не предложено, не оправдаем, как видно, затрат. Что ж, не положено так не положено. ...Гиблые войны, душа растревожена, и не востребован электорат. Боль, хоть какая, со временем выболит, смотришь, дождался тепла своего. Что бы там ни было, как бы там ни было, нет, кроме жизни, у нас ничего. * * * Рапсоды, схимники, витающие в сферах, вы честно вымрете, одни в своих пещерах. Не унимается духовная тревога, когда все молятся, а ты не веришь в бога. Вдруг обнаружится, чем боги были заняты, и торсы рушатся, трамбуются в фундаменты, и ветры буйствуют, и вдаль плывёт Улисс... Все богохульствуют, а ты один молись. * * * О доброе старое время чернильниц-непроливаек, и ситцевых галстуков красных, и розовых снов наяву! Хвостатых бумажных змеев, ступенчатых стихотворений и митингов слишком единственных, чтоб времени их повторить. Ораторов строгих с балконов, нарастающими голосами зовущих далёко-далёко, куда уж самим не успеть. О доброе старое время опасных прыжков с парашютом, прыжков в высоту невысоких, метанья спортивных гранат. Длина целомудренных платьев, свиданий идейная краткость, эпоха немедленных действий по линии новой любви. О доброе старое время! Ты — время моё молодое, и в этом, я думаю, главный твоих притяжений секрет. * * * Пейзаж осенний весь в миноре, ржавеет жесть, тускнеет медь. Как парк шумит! Он грохот моря решился вдруг перешуметь. А ветер... Что ты знал о ветре? На клумбах он сама любовь, но, взвившись, оголяет ветви старинных вязов и дубов. В нём столько ревности и рвенья, он гнёт верхушки тополей... Чем выше тянутся деревья, тем ветры буйствуют сильней. Маслина у лимана Покоя было мало, вот бы пожить счастливо! Маслина у лимана, дух эллинов, олива. В ночах Керкинитиды торс, таинства Киприды, — пылай в полубреду, мол... Но это я придумал. Соткались из тумана зной и песок лимана, ванильный дух оливы и я, опять счастливый. Рапные капли сплыли, Соль искрится на коже. А может, вместо пыли соль на оливах тоже? Улавливаюсь в эти серебряные сети, и роща в новом свете, и люди — снова дети, — времён смущая давность, мнёт сигаретку Дафнис, высматривает Хлою, подкрашенную хною. Лист плещется струистый, с изнанки серебристый. Лиман, песок, оливы. И я такой счастливый. Кизил Шныряют ветерки, гудит прибой у пирса, миндаль отцвёл, успел, о, как он торопился! Вот солнце день-деньской, и персиковый цвет карминный, зоревой, зажёг свой зябкий свет. Туман сползает с гор, течёт по балкам в город, безлиствен серый лес, как вставший дыбом хворост, но жёлтым сквозь туман чуть светятся кусты — зацвёл лесной кизил — невзрачные цветы. Вдруг снег как закружит на каменной гряде, сечёт, как наждаком, не спрятаться нигде, он завязь миндаля, цвет персика скосил. Освистанный, один стоит, цветёт кизил. В цвету лесной кизил, в цвету кизил садовый, Хоть белый свет не мил, цветёт для жизни новой. Останутся следы близ каменной гряды: мятежные, как кровь, и терпкие плоды. Раб Триера летела без паруса, ровно стрела, горели в мозолях ладони раба-работяги, Эллада свободная жить без него не могла, он был ей мотором на взрывчатой мускульной тяге. Он был продолженьем весла: «Заноси — налегай!» Он мог бы пропеть «Илиаду» не хуже рапсода, Он зваться бы мог Демосфен или царь Менелай — он раб до кончины, и нет никакого исхода. Как пламя поджога, во тьме загорелся зрачок, насупился эллин от этого страшного взора. «Я тоже Геракла из мрамора высечь бы смог!» Но время ещё не пришло. И наступит не скоро. «Вы там, наверху, вашей палубой свет перекрыт, а мы истлеваем на вёслах. Вам только одним бы амброзию знать и живых обнимать Афродит! Вы нас обманули. Не стало богов на Олимпе». Обкусаны губы, сократовский череп в огне, — о как бы ему на свободе дышалось и пелось! Тот раб, его буря бессильная всплеском во мне. Я что-нибудь сделаю. Жаль, что ему не успелось. Абориген (октавы) 1 Никто не властен над своей судьбой: кто где родился — это не награда и не проклятье. Быть самим собой в чужой стране? Ну что вы. Нет, не надо. Пусть будет всё, как есть. Домишко мой, бугристый двор с беседкой винограда... Есть родина, мой полуостров Крым, и я смеюсь и плачу вместе с ним. 2 Вьюжит погода где-то в Верхоянске, а в Коктебеле расцветает май. Тут жил поэт, скорбел по-христиански: мы разорили киммерийский рай. Морской разбойник разорял славянский, Хатёнок белых близлежащий край. Живой товар, над пленницей надруга. Так что давай не будем. Друг на друга. 3 История — как наша «Книга жалоб», в ней строго прошнурованы листы. Не вырвешь ничего, что помешало б, и не долепишь, как желал бы ты. Но есть натуры — что им твой аналог! Виновников найдут своей беды, И натворят таких «Историй Крыма», что правды не узнать под слоем грима. 4 Мир полон войн. Воинственный заскок заметен даже в просвещённых людях. Те — «С нами Бог!» и эти — «С нами Бог!» льют кровь, но победителей не судят. Заучиваем с детства назубок, мол, не убий! А что же завтра будет? О, только бы не то же, что вчера! На это есть большие мастера. 5 Крымчанин, так сказать, абориген, не станет задирать иноплеменных. Хоть не индеец я и не бушмен, в своих витаю грёзах отрешенных и не воспринимаю перемен: полоски общих пляжей поделённых перекупает пришлое ворьё. Как говорится, каждому своё. 6 Я жизни рад, как тот старик татарин, ни в чём ни перед кем не виноват, кувалдою всеобщей вдруг ударен, остался жив и возвращён назад. Нашёл родник, отвёл из-под развалин, привил лозу и обновляет сад — Среди страданьем выстроенных стен не должен враждовать абориген. 7 Сравни с далёким прошлым нашу плотность: раз в пять живём тесней! Наш крымский крест. Безводье, пляска цен, полуголодность... Естественный прирост? Да нет. Приезд! Нашествие. Отсюда расторопность с пропиской для трудяг из дальних мест. И на глазах аборигенов робких растут домов стоместные коробки. 8 Вот едет назначенцем не навек столичный ум, попавший вдруг в немилость. На полуостров прибыл человек держать штурвал, чего бы ни случилось. Едва освоив дачный свой ночлег, предшественника тень едва размылась, как новый Первый оживил собранье докладом со словами: «Мы, крымчане!» 9 Я здесь хотел бы сделать примечанье к своим сужденьям о добре и зле. Кто где рожден, скитался не случайно, искал тепла у времени во мгле. Но есть такая нация — «к р ы м ч а н е», единственная общность на земле. И если ею нам не дорожить, тогда не знаю, как мы станем жить. 10 — А, брат-абориген! Привет. Гуляем? Я тоже выбираюсь в этот час. Давай поговорим, порассуждаем, скамейка рядом, самое для нас. Как мыслишь? Крым — он скоро станет раем? — Согласья мало, если без прикрас. — Я так скажу: кто свариться начнёт, тот первым и подставит свой народ. 11 Крым не дворец. Живём, понятно, туго. В Общаге мы, и всем она своя. Никто из нас не вытолкнет друг друга под дождь и снег. У каждого семья. А что такое беженская вьюга, с колясочкой в далёкие края? Я так скажу: поладим без хлопот, коль посторонний нас не подожжёт. 12 Три звука: поцелуи, струи, туи столетние. Темнеет, нам пора. Уйдём, и тут зашепчут поцелуи студенческие, чуть не до утра. Фонтан соседний распыляет струи, кружится праздник в стёклах фонаря. А где-то в небе пушкинская лира поёт «Брега весёлые Салгира». Севастополь | |
| Просмотров: 1617 | Комментарии: 2 | Теги: | Рейтинг: 5.0/1 |
| Всего комментариев: 2 | |
|
| |



